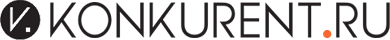Перед системой высшего журналистского образования встали вызовы цифровой революции в СМИ. Одним из последствий этого стала потеря журналистами монополии на создание новостей, других материалов на социально значимые темы. Другим последствием стала утрата профессией – по целому ряду причин – доверия аудитории, приводящая к кризису профессиональной идентичности. Медиасреда активно трансформируется, а вот с медиаобразованием все не так просто. Почему? С этим вопросом деловой еженедельник «Конкурент» обратился к экспертам, KONKURENT.RU решил опубликовать мнение коллег с некоторыми сокращениями.
 Ирина Куманева, доцент факультета креативных индустрий Института медиа НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики), академический руководитель образовательной программы «Медиакоммуникации», экс-директор департамента коммуникаций и медиа ДВФУ:
Ирина Куманева, доцент факультета креативных индустрий Института медиа НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики), академический руководитель образовательной программы «Медиакоммуникации», экс-директор департамента коммуникаций и медиа ДВФУ:
– Давайте говорить о медиаобразовании в широком контексте. В принципе изменился подход к образованию в стране и, соответственно, в области медиа тоже. Происходит сдвиг в сторону практикоориентированности. Это важный момент, поскольку область прикладная, но стал проседать социогуманитарный фундамент, т. е. знание истории, философии, литературы. Также ушел фокус с ценностных оснований медиапроектов. Это имеет определенные последствия сегодня и в профессии. Это усиливается и нехваткой экспертизы в регионах, недостаточным объемом медиарынка и т. д.
Уровень подготовки абитуриентов зависит в принципе от ряда факторов. Но если опустить все региональные, школьные, личные аспекты, то в целом сегодня абитуриент гораздо более подготовленный. Ребята много читают, знают о происходящем в стране и мире, ориентируются в медиаполе. Конечно, есть моменты, связанные с поколенческими особенностями, например, отсутствие навыка критического мышления, но при проектировании образовательных программ надо просто это учитывать и предлагать курсы для формирования этих навыков. Мы так делаем в «вышке».
Медиаобразование будет концептуализироваться и формировать внутри себя ядро из социогуманитарного блока. На это сегодня есть запрос и общества, и государства. Безусловно, практикоориентированность никуда не уйдет, но, скорее, это будет оттачивание узконаправленных навыков. Например, освоение генеративных алгоритмов при видеопроизводстве. В основе этого социогуманитарного фундамента будет усиливаться трансляция системы ценностей.
 Андрей Островский, заслуженный приморский журналист, руководитель пресс-службы Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева:
Андрей Островский, заслуженный приморский журналист, руководитель пресс-службы Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева:
– Последние два года я не преподаю, хотя отдал этому более 30 лет. Думаю, что образование должно идти в ногу со временем. Но оно стало хуже с точки зрения общекультурологической базы. Я сейчас буду похож на человека, который говорит о том, что раньше девушки были красивее, деревья выше, а воздух чище, но я настаиваю на этом. В былые годы русский язык на журналистике преподавали десять семестров. Точно так же обстояло дело с русской и зарубежной литературой. По десять семестров. Это был совершенно другой образовательный бэкграунд.
Что касается медиакоммуникаций, на самом деле это все не более чем игра слов, потому что мы готовим журналистов, а не медиакоммуникаторов. Я вообще не считаю важным даже обращать на это внимание. Это все несерьезно.
Что происходит, например, на телевидении? В ГТРК «Владивосток» или на «ОТВ-Прим» по большей части приходят выпускники Высшей школы телевидения ВВГУ, а не ДВФУ. Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что в ВВГУ по-прежнему существенная часть преподавательского состава – это журналисты-практики, которые учат не теории, а непосредственно работе в редакции. То есть это практическая прикладная тележурналистика.
 Сергей Булах, директор Высшей школы кино и телевидения ВВГУ:
Сергей Булах, директор Высшей школы кино и телевидения ВВГУ:
– Для любой системы важна общая подготовка, общий уровень знаний и навыков, определяющих человека образованного. В нашей системе координат мы исходим из того, что каждый студент имеет право на индивидуальный трек, на собственную траекторию профессионального развития при общем обязательном наборе университетских дисциплин. Как нам это удается сделать? Особым учебным планом, в котором профессиональные дисциплины начинаются не на третьем курсе, как у некоторых, а в первом семестре. А базовая профессиональная дисциплина «Творческая мастерская журналиста» у нас в плане целых семь семестров – три с половиной года обучения из четырех. В каждом из этих семестров студент обязан продемонстрировать умение создавать разноформатные медиаматериалы, и собранные в одном портфолио работы очень наглядно показывают, как развивается студент.
Абитуриенты всегда очень разные, ни один год не похож на предыдущие. Если говорить обобщенно, то наши абитуриенты проявляют все большую мотивированность при выборе вуза и специальности. При этом их общие знания не всегда «на уровне». Иногда в их картине мира просвечивают целые материки белых, неосвоенных пятен. Поэтому приходится заниматься не только профессиональным, но и общим образованием наших юных коллег. Единственное, что точно присуще вновь приходящим, – возрастающие навыки работы в современной цифровой среде. Например, редко кто из приходящих не занимался видеомонтажом. Правда, не всегда с помощью софта, на котором работают профессионалы. Как ни странно, переучивать оказывается сложнее, чем раньше было научить с нуля.
Однозначно медиаобразование не будет стоять на месте. При этом мне кажется, что наряду с технологическим вектором – умением работать с большими базами данных, различными цифровыми платформами – другой вектор также будет важен – повышение социальной ответственности и осознание важности адекватного ответа на запросы своей аудитории.
Виртуальная и дополненная реальность, которые подкрались к нам совсем незаметно, ставят новые вызовы, ломают привычные фундаментальные основы профессии. Разве коммуникации сохранятся в новой среде, если по своей природе виртуальная и дополненная реальность аматериальна и акоммуникабельна? Вот о чем бы думать уже сейчас, готовя к новым вызовам нынешних студентов, завтрашних работников медиаиндустрии.
 Максим Бордаков, начальник службы информационных программ филиала ВГТРК во Владивостоке:
Максим Бордаков, начальник службы информационных программ филиала ВГТРК во Владивостоке:
– Медиакоммуникации, журналистика, реклама и связи с общественностью – все это однокоренные профессии. Учитывая, что у нас сразу несколько вузов занимаются подготовкой медийщиков, казалось бы, дефицита в специалистах быть не должно. Но при этом компании и ведомства бесконечно публикуют вакансии корреспондентов, редакторов и пресс-секретарей. Коллеги из разных СМИ сетуют: в редакции почти не осталось толковых журналистов! Думаю, что во многом это происходит из-за неосознанного выбора абитуриентами будущей профессии. Не сразу студенты понимают, что научиться в нашей отрасли по учебникам не получится.
Нет универсального рецепта, по которому можно научиться писать тексты и снимать хайповые ролики. Главным спутником специалистов в этой отрасли является, наверное, если не талант, то способность «вкусно» подать материал на уровне чуйки. Поэтому многие теряют мотивацию работать в медиа с формулировкой «это не мое».
В вузах недостаточно специалистов, разбирающихся в новых медиа. Что хотят получать студенты? Актуальные кейсы по новейшим стандартам информационного мейнстрима. Вместо этого они зубрят историю журналистики, учат теорию литературы, пишут курсовые, которые практически не пригождаются им в профессиональном труде. Собственно говоря, все эти эксперты по гражданской журналистике, профессиональные блогеры, теоретики и практики новых платформ сейчас становятся коучами и продают свои знания на специальных онлайн-курсах за бешеные деньги. Они не пойдут работать в ДВФУ или ВВГУ.
У приглашенных преподавателей-практиков в местных вузах уровень оплаты ниже, чему у таксистов. Например, в ДВФУ один час оценивается в 478 рублей до выплаты налогов. Действительно, вопрос о привлечении «индустриалов» к преподаванию стоит очень остро. Не говоря уже о том, что преподавание – это не развлечение, а тяжелый и вроде бы неблагодарный труд.
Сейчас все вузы заявляют, так или иначе, что готовят не журналистов, а специалистов медиасферы. Это люди, которые должны понимать, как использовать и создавать контент на новых платформах.
Когда студенты приходят на практику в СМИ, то проявляют не только низкий уровень подготовки, но и незаинтересованность в реальной работе. А ведь нашему делу научить невозможно, им можно только овладеть непосредственно на практике.
 Пётр Самойленко, доцент департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ, эксперт Российского общества политологов:
Пётр Самойленко, доцент департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ, эксперт Российского общества политологов:
– Медиаобразование, как и другие направления подготовки, меняется, что является реакцией как на общее развитие общества, технологий и общий прогресс цивилизационного развития, так и ответом на определенные вызовы, которые появляются с завидной регулярностью. Думаю, что основные изменения в сфере медиаобразования – это постепенное увеличение объемов использования современных технологий и погружение в цифровую среду, а также углубление в изучение – как фундаментальное, так и прикладное – трендов развития современной цивилизации, которая формирует постоянно растущий запрос на коммуникативные и медийные специальности. Это происходит в силу как минимум того факта, что мы живем в условиях так называемого информационного общества, в котором управление информационными потоками является стратегической задачей для любой сферы – государства, бизнеса, некоммерческого сектора и общества в целом. Что же касается состояния медиаобразования, полагаю, что в настоящий момент в целом мы, медийные и коммуникативные направления подготовки, отражаем общее положение дел в системе высшего образования в целом, и чего-то принципиально отличающегося в оценке существующего положения дел у нас нет.
Лично я не сторонник рассуждений в стиле «вот раньше студенты были лучше/хуже». Они не «хуже» и не «лучше», они другие. Прежде всего, конечно, в части своей погруженности в цифровую среду, что для нас как раз имеет важное значение.
Медиасфера будет все больше использовать принципы цифровых и сетевых коммуникаций, активно будет идти развитие так называемых новых медиа – мессенджеров, социальных сетей и так далее. При этом классические медиа и реклама никуда не денутся, просто они тоже будут эволюционировать, погружаясь в «цифру». С другой стороны, проникновение интернета во все сферы жизни уже выявило и ряд очевидных вызовов гуманитарного характера. Яркий пример – фейки, которые являются серьезной угрозой.
Очевиден рост спроса на специалистов, которые могут «отфильтровывать» любую информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц, верифицировать ее и не допускать различных угроз, формировать качественный медиаконтент для разных категорий пользователей. Искусственный интеллект? Без нас в его внедрении и применении не обойтись, правила и тренды будут задавать люди, а не алгоритмы. Ну, или вот проблема современной цивилизации: снижается интерес к классическим формам литературы. Медиа могут и должны создавать тренд на чтение и классические формы работы с информацией. Но для этого работники нашей индустрии должны обладать широким мировоззрением, направленным на решение разнообразных общегуманитарных и экономических задач.
 Александр Савицкий, соучредитель PrimaMadia, генеральный директор ООО «Центр репутационных технологий Владивостока»:
Александр Савицкий, соучредитель PrimaMadia, генеральный директор ООО «Центр репутационных технологий Владивостока»:
– В целом высшее образование переживает кризис. Причем не только в России, но и во всем мире. Про это уже достаточно долго говорят, но пока точного рецепта «лечения» нет. В нашей стране проблема усугублена развалом СССР, постепенным отказом от «советской» модели образования, излишней «коммерциализацией» высшего образования, появлением в каждом вузе факультетов «юристов»/«экономистов» и прочими факторами. Во Владивостоке на фоне всего этого прошло резкое снижение числа вузов, но при этом формально количество образовательных учреждений, где готовят журналистов, выросло. Медиаобразование «болеет» всеми присущими высшей школе болезнями. И многое расстраивает, когда сталкиваешься с этими реалиями. Мне даже жаль студентов, поскольку они точно могли бы провести годы обучения с гораздо большей пользой.
Сейчас система медиаобразования с трудом выстраивает связи с реальным сектором экономики, в данном случае со СМИ региона.
В отрасли востребованы как универсальные сотрудники (журналисты, медийщики – как угодно их назовите), которые знают и могут делать разное, так и узкопрофильные, которые, к примеру, погружены в банковскую сферу и могут вести соответствующую рубрику в медиа.
Я начинал с работы корреспондентом, писал заметки на рыбную тему, потом работал в отделе рекламы, «верстаком», потом был ответственным секретарем, директором по маркетингу и рекламе, работал в органах государственной власти, стал соучредителем собственного СМИ, был главным редактором, консультировал политиков и предпринимателей, участвовал в избирательных кампаниях. Классический, как сейчас выражаются, «медиаменеджер», «медиаэксперт», но который всегда «пописывал». Такие погруженные во все стороны работы медиа специалисты будут востребованы в любое время. Можно ли этому всему научить в вузе? Нельзя. Но можно дать основы многого из перечисленного. В то же время есть и журналисты, которые всю свою профессиональную карьеру в основном работают именно «журналистом», «обозревателем», «корреспондентом». Т. е. специализируются на чем-то одном. И в этом они сильны.
Я недавно общался с Ярославом Кабаковым из компании «Финам», который преподает в нескольких вузах Москвы и при этом очень «медиаактивен». Мне было интересно узнать его мнение об опыте привлечения «нежурналистов» в СМИ. К примеру, Максим Орловский, управляющий директор «Ренессанс Капитала», который сейчас соведущий передач на РБК. Это достаточно распространенная сейчас в «московских» СМИ практика, и ее вполне можно считать успешной. Пути в профессию журналиста могут быть разными, но нельзя сказать, что какой-то из них однозначно лучше.
Куда будет развиваться медиасфера дальше – вопрос на «миллион долларов». Сегодня в ней задействовано много разных специальностей: медиаюристы, бухгалтеры, которые знают специфику медиа, проектные менеджеры, программисты, SMM-специалисты, собственно «классические» журналисты, медиаменеджеры и т. д. Появляются новые «специализации» вроде промт-инженера для работы с искусственным интеллектом. Поэтому медиасфера будет втягивать в себя все больше «смежных» профессий, что будет повышать требования к уровню и качеству медиаобразования.
Вопросов сейчас больше, чем ответов. Но для начала было бы хорошо, если бы высшая школа в сфере медиаобразования стала более заинтересованной во взаимодействии с практиками из профессии. Пока практикующих профессионалов отрасли в наших вузах крайне недостаточно.