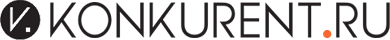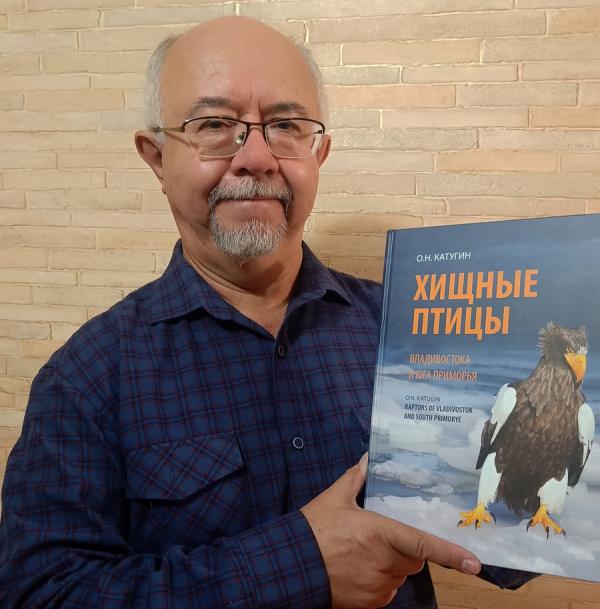Февраль и март 2025 г. запомнится чередой школьных скандалов. Это и случай в школе Тавричанки, где учителя обвиняют в связывании рук первокласснику, и ситуация в школе Смоляниново, где первоклассник угрожал и педагогу, и детям, и побитый восьмиклассник в Дальнереченске. Почему ситуация с травлей школьников только ухудшается? Об этом деловой еженедельник «Конкурент» поговорил с уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае Ольгой Романовой.
– Ольга Владимировна, насколько в школах Приморского края серьезна ситуация с травлей учеников или учителей?
– На мой взгляд, ситуация критическая. Количество обращений по данной проблеме растет, они поступают ежедневно. Но часто обращения родителей указывают не на травлю, а на конфликт. Травля и конфликты – понятия разные.
Конфликт – столкновение только двух сторон. Например, родитель и учитель в начальной школе. Родители обвиняют педагога в предвзятом отношении к ребенку. Учитель обижается за незаслуженные упреки. Это конфликт. Но если с этой ситуацией не поработать, она может перерасти в предвзятое отношение к ученику на фоне обиды. А это уже – миллиметр до проявления травли со стороны учителя. Для Приморья этот сценарий – самый распространенный в начальной школе.
– Изначально договориться не могут взрослые?
– Именно. В этом заключается проблема. Если каждая из сторон будет понимать степень своей ответственности, все изменится.
В оценке ситуации в Смоляниново есть суждение: этот ребенок плохой. Это неверная позиция. Взрослые должны четко понимать: за воспитание ребенка отвечают две стороны – семья и образовательная организация, которую посещает ребенок. Эта ответственность прописана в двух федеральных законах – Семейном кодексе РФ и в 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В семье родители закладывают в ребенке границы, формируют его принципы, навыки, ценности, а в школе – учителя, педагоги. На учителях и воспитателях детских садов лежит ответственность за воспитание ребенка в коллективе. И когда у ребенка возникают проблемы в отношениях с коллективом, значит, и семья, и школа недостаточно хорошо справились со своими обязанностями.
– Многие сегодня убеждены, что воспитывает только семья, а школы только учат.
– Это неверно. В законе об образовании, в статье 2, четко прописано: «Образование – единый процесс воспитания и обучения», при этом слово «воспитание» – на первом месте, а вот «обучение» – на втором. Но сейчас происходит системный сбой: школы считают, что коррекция поведения ребенка, коррекция его воспитания – это проблема исключительно родителей. Часто в школу или детский сад приходят дети, к примеру, не знающие границ дозволенного и недозволенного.
Это не значит, что учитель или воспитатель не должны исправлять ситуацию. Если ребенок приходит невоспитанным, обязанность образовательной организации его воспитать, причем вместе с родителем. В сотрудничестве и партнерстве с ним.
Сбой в системе образования в том, что и ответственность не принимают, и с родителями сотрудничать не готовы. Готовы только спрашивать и требовать.
– Заложниками ситуации становятся дети?
– Не только заложниками, но и плательщиками – дети платят по счетам взрослых. Родители должны выучить правила поведения обучающихся. Часто родители записывают детей в первый класс и даже не читают документы школы. Зря.
Школе тоже кое-что стоит выучить. Например, как использовать имеющиеся у нее инструменты коррекции любой проблемной ситуации с обучающимся. Их как минимум четыре: внутришкольный контроль, внутришкольный учет, психолого-педагогический консилиум и индивидуальная профилактическая работа в соответствии с планом, обсужденным и принятым совместно с родителями.
Все четыре инструмента прописаны в соответствующих Положениях и опубликованы на сайтах школ. Ими не пользуются.
В ситуациях с конфликтами есть еще один инструмент – комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Им тоже не пользуются. Гораздо привычнее и удобнее столкнуть всех родителей между собой и выдавить неудобного ученика в другую школу или на семейную форму обучения.
Тем временем эти инструменты позволяют запустить целый ряд нормальных, правильных и педагогических механизмов. Например, если один учитель не знает, как поступить, варианты решения ищут все коллеги. Этого сегодня тоже почти нет. В итоге мы имеем ситуацию, при которой школы начинают обвинять родителей, не сделав для исправления ситуации ровным счетом ничего.
– Вы занимаете пост уполномоченного по правам ребенка более пяти лет. Ситуация за эти годы изменилась?
– Если говорить о ситуации с конфликтами в образовательной среде, то она ухудшилась. Основная проблема – нагрузка на учителей. Она чрезмерная. Это приводит к эмоциональному выгоранию. Хочу сразу отметить: эмоциональное выгорание не значит, что человек плохой. Это просто данность, симптом любой помогающей профессии. Если человек отдает свои эмоции и силы другому человеку, он выгорает.
Учителя постоянно отдают себя детям. Поэтому нужно помогать им восстанавливаться. Я считаю, что у каждого директора школы должна стоять личная задача – восполнять эмоциональный провал у своих педагогов.
– В этом могут посодействовать школьные психологи?
– Только при условии, что у них есть на это время, запрос директора и, главное, согласие самих учителей. Учителя не соглашаются. Разрядка эмоциональной батарейки человека – это нормально. И чем больше конфликтов, тем быстрее идет разрядка. В итоге мы имеем сложный эмоциональный фон, отсутствие ресурсов и неумение их пополнять, малое количество специалистов, способных оказать помощь, – все эти факторы ухудшают ситуацию в школах.
– Мы обговорили конфликты между учениками и учителями, родителями и педагогами. А как ситуация обстоит с конфликтами между детьми?
– Не каждый конфликт – травля, но в основе травли всегда будет лежать неурегулированный конфликт.
В конфликте всегда есть только две стороны и нет умысла. У травли всегда он будет. Как и неравенство сил: например, учитель начальных классов и ученик, или группа детей и ученик, или группа родителей и один родитель. Третий признак травли – системность, наличие нескольких эпизодов или их растянутость во времени. Я работала с ситуацией с одним мальчиком, который сейчас учится в восьмом классе, а травить его начали со второго класса. Просто мама не сразу это поняла и не обращалась за помощью.
Родителям нужно уметь видеть, когда их детей травят в школе. Это не просто нежелание учиться, это страх. Учеба здесь уже не важна: если ребенку страшно идти в школу, никакого образования не будет. Учеба возможна только в безопасной обстановке. Когда родитель заметил подобное в ребенке, пора бить тревогу. Надо обращаться письменно к директору и просить разобраться.
– Все обращения к школе должны быть в письменной форме?
– С людьми, получающими зарплату от государства, нужно разговаривать языком письменных обращений. Устные разговоры по телефону, устные обещания – это воздух. Должен быть документ. На него должны ответить в течение 30 дней. Из таких ответов уже будет видно, что можно сделать дальше. Например, такие ответы могут иллюстрировать бездействие. Очень часто у нас ситуация с ответственностью школы – это бездействие.
– Каких конфликтов в школах в Приморье сейчас больше: между учениками и учителями или между учениками и учениками?
– Конфликты – неотъемлемая часть отношений. Избавиться от них невозможно. Но важно понимать природу конфликта и осознать, что выход из конфликта – уступки с обеих сторон.
Сейчас у нас конфликтная среда и полное отсутствие понимания того, как с конфликтом работать.
Сценарии зависят от возраста. В начальной школе всегда конфликты между учителями и родителями или между родителями. Меньше – между детьми. Начальная школа – это конфликтующие взрослые.
В среднем звене ситуация меняется. Начинается подростковый период. Для детей главными людьми становятся сверстники, их отношения выходят на первый план. Если у подростка есть недостаток родительского тепла, внимания и заботы, то он будет искать их у сверстников. Не получив, может начать забирать необходимое силой. Это частые примеры, когда подросток вдруг начинает плохо себя вести.
И часто взрослые даже не задумываются о причинах плохого поведения, о том, что они сами сделали, чтобы изменить ситуацию.
Если ученику среднего звена не уделяют внимание дома, не разговаривают с ним, не обсуждают его страхи, эмоции, переживания, это может и обязан сделать классный руководитель. Он – ключевое звено в воспитании детей в образовательной организации. Это тот взрослый, который наравне с родителями отвечает за воспитание ребенка. Но высокая нагрузка часто не позволяет учителям выполнить эту роль.
Помочь могли бы методические пособия. Сегодня очень хорошие методики работы с детским коллективом создают педагоги из сферы детского летнего отдыха. Я с большим интересом их читаю. Мне кажется, если бы каждый классный руководитель использовал эти методики, им было бы проще и интереснее работать. Там есть все подсказки на самые актуальные задачи – как подружить детей, как сократить число конфликтов, в какие игры играть, какие беседы вести.
– Что происходит среди детей постарше?
– Самый острый период конфликтов между детьми – это 5-е и 6-е классы. Это драки, группы детей против одного, пресловутые съемки другого ради унижения. Иногда так дети пытаются восстановить справедливость – когда на конфликт не реагируют взрослые.
В 11-х классах уже почти нет буллинга. В 10-х классах эти ситуации возникают, когда снова формируется коллектив, собранный из разных классов. В одном классе может оказаться сразу три лидера. Они будут конфликтовать.
У старшеклассников чаще случается кибертравля: когда нападают на кого-то в соцсетях, мессенджерах. Иногда в этом могут принимать участие и дети из 7-х, 8-х классов. Используя цифровые технологии, подростки иногда сводят свои счеты. Когда взрослые не помогли им урегулировать конфликт, например.
В 11-х классах ученикам уже не до травли. Там все заняты подготовкой к ЕГЭ.
– Недавно в Госдуме предложили привлекать старшеклассников к решению конфликтных ситуаций в школах. Как вы считаете, такой метод сработает?
– Он уже существует, и в Приморском крае в том числе. Это служба школьного примирения. Но тут важно условие: взрослые должны обучить старшеклассников способам решения конфликтов, провести курсы юного переговорщика. Тогда метод будет эффективным. Все-таки несовершеннолетних граждан должны обучить правильным вещам, правильным поступкам совершеннолетние граждане.
Пока службы школьного примирения работают не везде. Причина – отсутствие времени у взрослых на это самое обучение.
– Такие службы создаются по решению директоров школ?
– У руководства школ есть два основных инструмента профилактики возникновения конфликтов. Это служба школьного примирения и служба школьной медиации. Эти инструменты должны работать и с ситуациями травли. Оба метода не обязательны. Их наличие лишь рекомендовано министерством просвещения. Третий же механизм – комиссия по регулированию споров между участниками образовательных отношений – должна быть в каждой школе обязательно. И это обязательное условие сегодня, к сожалению, почти нигде не выполняется.
– Как родителям добиться рассмотрения конфликта на комиссии по регулированию споров?
– Порядок простой. Пишется обращение на имя директора. В нем указываются факты: когда, при каких обстоятельствах и между кем произошел конфликт. Это могут быть и споры между учениками и учителями, и конфликты между детьми. С этими ситуациями должны разбираться не участники конфликта, с этим должна разбираться конфликтная комиссия – коллегиальный орган, состоящий из равного числа родителей и учителей.
Конфликтная комиссия – не совет профилактики. Если со спорами разбирается такой совет, то это является незаконным действием. Нормы об этих двух коллегиальных органах прописаны в двух разных законах. Совет профилактики – инструмент, который действует в соответствии со 120-ФЗ. Конфликтная комиссия – в соответствии с 273-ФЗ – законом «Об образовании».
– Вы постоянно отмечаете, что в школах есть все инструменты решения конфликтов. Однако они не применяются. Почему?
– Должны быть соблюдены два важных условия. Во-первых, учителя должны о них знать. Они должны хотеть узнавать о них. Моя личная точка зрения: если учитель не интересуется вопросом, почему тот или иной ребенок ведет себя так или иначе, то это уже не педагог. Возможно, учитель. Но уже не педагог. Значит, такому сотруднику работа педагога не интересна. Ведь педагог – это прежде всего человек, выстраивающий свои отношения сначала с каждым учеником, а уже потом с классом в целом. Если этого нет, значит, выгорел, значит, потерял интерес к своей работе.
Во-вторых, на решение конфликтов нужно время. Нужно отключиться от всего остального, чтобы понять, как с ребенком поговорить. К сожалению, у педагогов этой возможности нет. Они заняты отчетами, электронными дневниками, подготовкой к урокам и очень многим другим. Поэтому мы имеем то, что мы имеем.
Важную роль играет и позиция директора школы. Если для него этот вопрос значим, если он не хочет, чтобы пострадали дети, если он не хочет стать фигурантом уголовного дела по статье «Халатность», он будет доносить принципы решения конфликтов до своих подчиненных. Это его ответственность. В таких школах будут работать все нужные инструменты. Но если директору это не интересно, к сожалению, это не будет интересно и его подчиненным.
– Насколько опасны неурегулированные школьные конфликты?
– Опасны, конечно. Вплоть до последующего сведения счетов. В основе любого скулшутинга или школьных серьезных ЧП лежит или травля, или многоуровневый конфликт. Сначала все начинается с неразрешенного конфликта. Потом может начаться травля. Уже затем это может привести к сведению счетов, если ситуацию не решать.
– Какие случаи самые шокирующие? Сталкивались ли вы с такими?
– Шокирующие все. Происходят почти каждый день. Дети очень сильно страдают от таких ситуаций. Не только психологически, но и физически.
В прошлом году один ученик третьего класса так боялся учителя, что у него в организме все системы начали давать сбой. И сердце, и легкие, и желудок, и эндокринная система. Врачи не могли найти причину. Оказалось – школа и постоянное напряжение от предвзятого отношения учителя. В такой ситуации форма семейного образования – выход из положения. Хотя бы на время. Но в какой-то степени эта форма – это и есть перекладывание ответственности. Образовательная организация остается в стороне. Ответственность за образование ребенка полностью принимает на себя родитель. И финансовую в том числе. Происходит своеобразная подмена. И это, как минимум, несправедливо.
– Вы заговорили про психологическое насилие. Каким оно бывает со стороны взрослых?
– Изоляция, игнорирование, обесценивание, унижение. Очень искусные манипуляторы этими приемами пользуются. Это неминуемо приводит к психологической травме ребенка. И не надо говорить, что сегодняшние дети слабые, что мы росли не в таких условиях, это не так. В отличие от сегодняшнего времени мы росли в условиях, когда взрослые понимали степень своей ответственности. Все взрослые: и родители, и профессионалы в школах.
– Если стандартные инструменты работают не везде и не всегда, что остается родителям: предавать конфликт огласке? Насколько это эффективно и нужно?
– Сегодня это наиболее эффективный способ. Во-первых, он очень сильно стимулирует всех людей, придерживающихся мнение, что сор из избы выносить нельзя. Выносить можно и нужно. Если этот сор не донести до директора или до общественности, ситуация все равно выйдет наружу. Ведь ситуация не стоит на месте, она развивается. Молчание приведет к тому, что конфликт дорастет до крайней точки, в форму физического насилия, с последующим заведением уголовных дел на учителей, директоров. Родители должны это понимать. Нужно идти и официальным путем – обращения на имя директора, и предавать огласке. Параллельно.
Огласка – инструмент профилактики. Чтобы таких ситуаций не было или почти не было. Молчание приведет лишь к тому, что платить за него будут дети. Это им придется страдать и подвергаться всему тому, что мы видим сейчас.
– Когда случаи конфликтов в школах предаются огласке, комментарии буквально заполнены ненавистью в отношении детей. Она исходит от взрослых. Почему?
– К сожалению, у нас действительно существует проблема в головах взрослых. Это какая-то инфантильная позиция: «Это не мы виноваты, это дети некачественные». Меня, конечно, шокируют такие комментарии. Взрослые за свои недоработки и безответственность пытаются спрашивать с детей, делают их виноватыми.
Среди сегодняшних родителей есть люди, по паспорту считающиеся совершеннолетними, а по уровню ответственности и осознанности – оставшиеся подростками. Они не готовы, находясь в своей зоне комфорта, нести ответственность за свои действия по воспитанию детей. Сегодняшняя данность для них – виноват или сам ребенок, или кто-то другой, но не они.
Еще один момент шокирует. Комментарии о том, что надо сделать с детьми.
Почему сейчас возбуждаются уголовные дела? Потому что насилие над ребенком недопустимо. Насилие – это преступление. К сожалению, сегодня общество действительно оправдывает такие преступления. Что меня поражает. Взрослые люди, к сожалению, считают нормой применение насилия к детям. Это ужасно.
– Вы говорили, что сегодня общество само по себе конфликтно. Но дети, как известно, отражение взрослых. Скажите, можно ли изменить ситуацию с конфликтностью детей? Что нужно для этого сделать: изменить общество?
– Каждому начать с себя. Не стоит искать виноватых. Нужно понять, как каждый может повлиять на ситуацию. И это, в первую очередь, вопрос ко взрослым и в семье, и в школе.
Повлиять может каждый. Во-первых, всем следует знать законы. Во-вторых, стоит не забывать о возрастных особенностях детей. Дети каждый этап жизни меняются не только физически. У них меняется ведущая деятельность, меняются главные люди. У подростков, например, родители уходят на второй план, а на первый выходят сверстники. И это – нормально. Стоит не забывать о границах и обучать им детей. Невозможно развивать личность, если ребенок растет в безграничных условиях. Нужно научить его знать и видеть барьеры. Уметь перед ними останавливаться. Эти барьеры должны сформировать родители. В том случае, когда взрослые сами не знают ничего о границах, то следует спросить у тех, кто знает.
Взрослым нужно совершить три главных действия: узнать законы, выяснить, правильно ли они действуют, и пополнить копилку собственных инструментов воспитания проверенными и актуальными. И да, воспитание детей – это ежедневная работа взрослых.