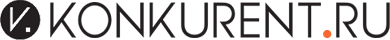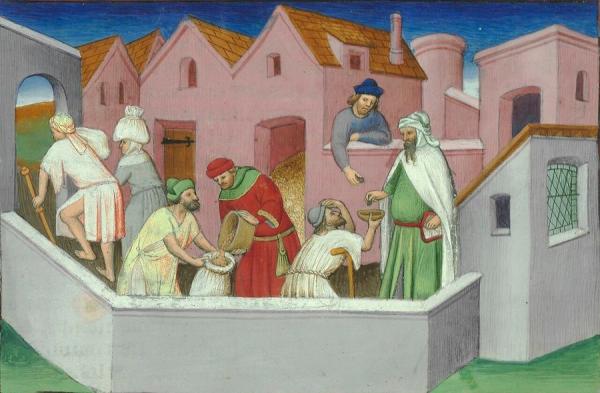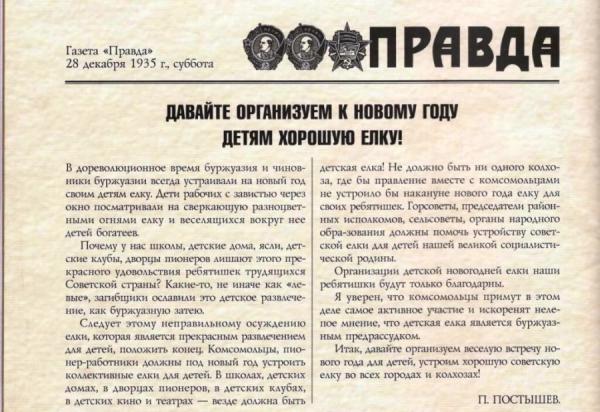Население Приморья испокон веков было азартным. Причем с веков самых ранних. Археологи Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока находят в приморской земле немало тому подтверждений.
В основном это каменные или изготовленные из стенок разбитых сосудов круглые игровые фишки и каменные расчерченные доски для азартных игр проживавших здесь бохайцев и чжурчжэней X–XIII веков. Наибольшее их количество найдено на территории бывшего большого порта государства Бохай в устье реки Цукановки, известное как Краскинское городище. Здесь археологи нашли более 1500 таких фишек. Причем большинство из них было обнаружено в одном месте, что позволяет предположить наличие здесь первого «казино» Приморья. Достоинство их, вероятно, определялось их размерами – от 1 до 7 см.
Множество фишек найдено вдоль древних бохайских дорог, это означает, что сыграть можно было и в любом постоялом дворе или почтовой станции. Игра эта называлась «Мельница».
Проведенные раскопки позволили археологам сделать вывод: «При этом популярность игры, вероятно, росла вместе с развитием городища, поэтому в верхних строительных горизонтах зафиксировано наибольшее количество этих изделий. Тот факт, что в северо-восточной части Бохая именно Краскинское городище лидирует по числу данных артефактов, объясняется, видимо, статусом этого города в бохайское время». Со временем статус игровой столицы Приморья перешел к Артему.
Пришедшие на смену бохайцам и чжурчжэням их последователи гольды также переняли у предшественников их страсть к игре. «Среди отрицательных качеств гольдов, к сожалению, следует отнести азарт», – писал исследователь малых коренных народов Уссурийского края приват-доцент Государственного Дальневосточного университета (ныне – ДВФУ) Иван Лопатин в 1922 г. «Отрицательные качества объясняются слишком низким культурным уровнем гольдов, их крайней нуждой, бедностью и прочими тяжелыми условиями их существования», – заключил он.
Пуля в руку
Теми же «тяжелыми условиями существования» определялась и приверженность к игре русских поселенцев дикого Уссурийского края.
«О духовной жизни говорить нечего – ее почти не было. Пьянство, картеж и сплетня – вот три кита, на которых держалось тогдашнее местное, даже «высшее» общество. Если в эту среду попадала свежая сила с более возвышенными запросами, она в конце концов или спивалась, или пускала себе пулю в лоб», – писали историки.
Как это происходило, красочно описал посетивший Владивосток в 1895 г. директор Батумского ботанического сада Андрей Николаевич Краснов, «давший нам картины природы их времени и их понимания»: «Игра «Тигр». Игра заключается в том, что участвующие, наполнив стаканы водкою, начинают рассказывать о своих охотничьих подвигах. Вдруг раздается крик: «Тигр! Тигр!» Все в испуге прячутся под стол, а исполняющий роль тигра, вбежав, осушает залпом наполненные стаканы. Игра продолжается до тех пор, пока роль тигра окажется ни для кого не под силу».
Со временем правила «игры в тигра» ужесточились. Об этом в 1896 г. рассказывал один из старожилов Владивостока столичному журналисту Давиду Шрейдеру, также обосновывая это «условиями окраинной жизни». Игра эта проходила в так называемом «Клубе Ланцепупов».
Давид Шрейдер: «Мы тушили огни, закрывали циновками окна, назначали кого-нибудь тигром, положим, меня – товарищи и сочлены вооружались заряженными револьверами и стреляли… «по шороху», в ту сторону, где слышался шум шагов тигра, т. е. моих. Ну а я, понятно, сняв сапоги, по условию в одних лишь чулках, пробирался по стенам, стараясь (мебель всю заранее выносили) ступать так мягко, неслышно, как пантера… Да, однажды не выдержал роли: споткнулся, ну и получил пулю в руку. Хорошо, что не в сердце… Мы тогда очень дешево ценили нашу жизнь».
«Отсутствие удовольствий, замкнутость семейных домов поневоле заставляют бросаться в карточную игру, чтобы хоть в ней забыться от мертвящей тоски города, куда письма приходят через два месяца, а то и через пять, – вспоминали очевидцы. – В 10 часов вечера город погружен в сон, и только в немногих домах мелькают еще огоньки. Бодрствуют лишь винтера да любители штоса – игры распространенной, несмотря на общее безденежье. В азартные игры играют в гостиницах и клубах, в частных домах».
Популярной в порту была и игра «Алямур», привезенная с Амура и поэтому получившая такое название. «Человек желает продать вещь подороже, чем она стоит. И он устраивает «алямур». Делает известное количество марок с высокой ценой и продает желающим, а те уже играют на эти марки в банк. Игра продолжается до тех пор, пока у кого-нибудь не окажутся в руках все проданные марки. Кто заберет марки, тот получит вещь. Иногда это длится около недели».
Ставка больше, чем жизнь
Но самыми азартными в Приморье были проживавшие здесь китайцы. Изучению их «индустрии азарта» много времени посвятил исследователь Приморья Владимир Арсеньев, за свою жизнь собравший не только значительную информацию об этом, но и множество игорных артефактов, хранящихся в дальневосточных музеях. Например: «19.2.1925. Палочка от китайской игры. Поместить в отдел. В. Арсеньев».
«Китайцы – страстные игроки, – писал Арсеньев. – Во время игры самый тихий, скромный и выдержанный китаец горячится до последней крайности и теряет самообладание. Ставки у них доходят до нескольких тысяч рублей, и нередки случаи, когда они проигрывают не только все свое имущество, но и собственную свободу, и тогда переходят в разряд рабов (та-хула-цзы). Тогда он навсегда лишается права участвовать в каких бы то ни было играх. У такого проигравшего есть еще один выход.
Это – «игра на мясо». Когда китаец проиграл свою свободу, он снимает с себя рубашку, схватывает левой рукой брюшной покров, правой одним ударом ножа отрезает от живота кусок мяса, который и бросает на стол – это и есть его ставка. Его противник не имеет права отказаться от игры, иначе его изобьют до смерти. Обычай этот освящен веками. В фанзе все затихают, все внимательно смотрят на играющих, следят за их лицами, за их движениями…
Все знают, что готовится трагедия… Теперь идет игра на жизнь. Если кредитор проиграет, то обязан вернуть своему партнеру свободу, если он не согласен дать ему свободу, то его валят на спину и от брюшины отрезают мяса столько, сколько рабу его удастся захватить двумя руками. Нередко такая игра оканчивается смертью одного из раненых. Я знаю один такой случай, который имел место в 1901 г. на р. Судзухэ (Киевке). После игры за свободу, когда у обоих китайцев была обрезана брюшина, они оба решили поставить на карту жизнь. Для этого они вышли из фанзы и на ближайшем дереве через сук перекинули веревку с двумя петлями. Петли эти они одели себе на шеи и стали тянуть друг друга. В данном случае банкомет остался жив, а проигравший удавился».
На острове Аскольд свидетелями такой игры были штейгеры Водеников и Колесников, рассказавшие, что после азартной игры в банковку два китайца тоже решили свести свои счеты на веревке: «Они одели чистое белье, лучшее платье, одели на себя петли и повесились. В результате оба оказались мертвы».
Игры на миллион
«Китайцы играют и в земледельческих и звероловных фанзах, и в ханшинных (водочных) заводах, и на рудниках. Здесь всюду можно найти игроков и самые азартные игры.
В городах, урочищах и вообще во всех больших китайских селениях есть специальные игорные дома, – отмечал Арсеньев. – Здесь китайцы играют в карты, банковку. Хозяин дома никакого участия в игре не принимает. В пользу его с каждого выигрыша поступает 10%. Это его доход. Он сидит в соседней комнате у сундука и меняет игральные палочки на деньги, или обратно».
Во Владивостоке игорные дома были сосредоточены в месте компактного проживания китайцев – так называемой «Миллионке». Например, «во дворе китайца Чай открыта игра в пяти домах днем, частью ночью. Юн-фа-тун играет в квартире своей, занимаемой им вместе с отцом его», – отчитывалась в городскую управу местная полиция. Здесь в 1887 г. датский подданный Розен подал заявление в полицию о том, что в игорном доме он «выиграл с Юн-фу-туна 600 руб., но тот их не отдал, почему и просит о взыскании их».
В 1933 г. советская власть составила опись китайских притонов в «Миллионке», среди которых были такие «притоны азартных игр»: «Чжан-кин-вин, Семеновская, 3, кв. 24. Китайский подданный, 38 лет, в 1929 г. нелегально прибыл на территорию СССР в город Владивосток, где проживает без определенных занятий, занимаясь исключительно содержанием притонов. В настоящее время содержит притон азартных игр («Сабо»). Суточный доход 800 руб.
Ян-зы-хо. Семеновская, 3 кв. 37. Китайский подданный, 38 лет, с 1920 г. проживает в городе Владивостоке, где с 1929 г. занимается содержанием притонов. В настоящее время содержит притон азартных игр на Дзержинской, 16, кв. 8».
17 июня 1936 г. Политбюро ЦК ВКП (б) обсудило вопрос «О ликвидации «Миллионки» во Владивостоке». Что и было окончательно сделано в 1938 г.
Юрий УФИМЦЕВ, фото автора